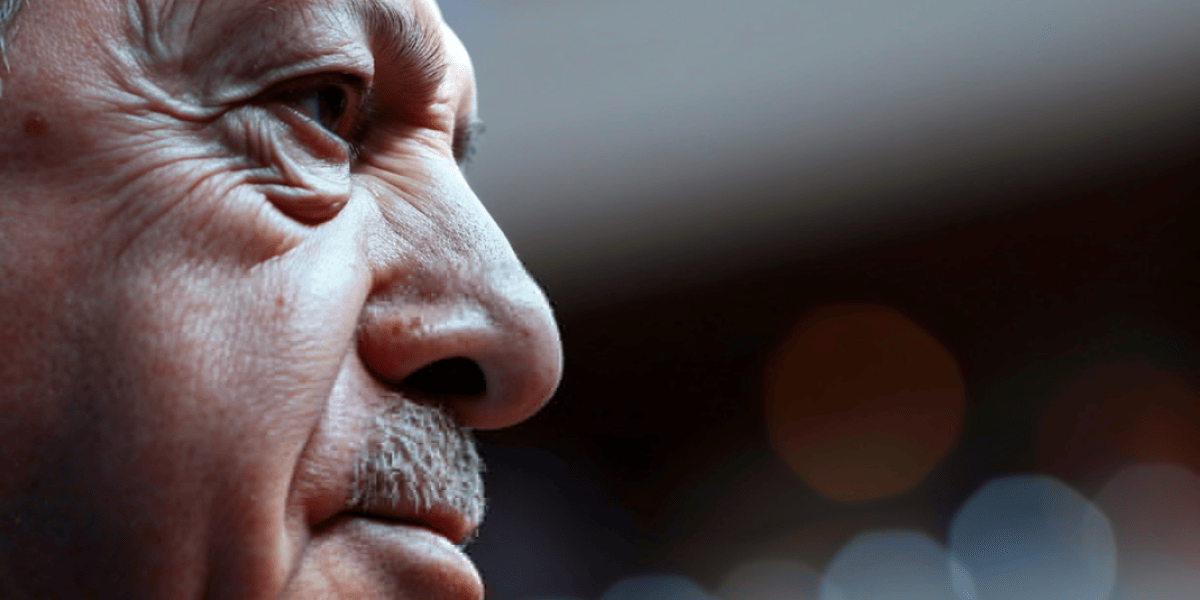Ещё десять лет назад Китай был мировой свалкой: на его территорию ежегодно завозили десятки миллионов тонн отходов из США, Европы и Японии. Сегодня ситуация кардинально изменилась: в провинциях Цзянсу и Чжэцзян мусоросжигательные заводы испытывают дефицит сырья — местные власти вынуждены закупать отходы в соседних регионах, чтобы поддерживать мощности.
Это не абсурд, а результат жёсткой государственной стратегии: за пять лет Китай построил более 800 современных заводов по термической утилизации отходов, ввёл обязательную сортировку в 47 мегаполисах, а мусор стал не проблемой, а источником энергии — в 2023 году от сжигания ТКО страна получила 55 тераватт-часов электроэнергии, что сопоставимо с выработкой небольшой атомной станции.
В основе успеха — централизованное планирование, инвестиции в инфраструктуру, цифровой контроль и персональная ответственность чиновников.
Китай строил долгое время крупные мусоросжигательные и, самое главное, мусороперерабатывающие заводы по все территории. Вокруг создавались, строились часто с нуля, малые и средние города. Этот процесс был увязан с программой строительства жилья и желанием Правительства Китая несколько снизить плотность населения по побережью, где в основном и располагалось население из-за возможности заработать.
К слову, центрами таких новых городов были не только мусоросжигательные или мусороперерабатывающие заводы, но и масса других средних и крупных предприятий различного профиля. К тому моменту в Китае активно развивалась транспортная инфраструктура, так что транспортная логистика не сильно добавляла в цену продукта. Аналогично, в свое время, поступали в Союзе, во время индустриализации и уже во время и после войны.
Как Китай делает огромные деньги из мусора
Да, часть мусора скупается сейчас для поддержания работы мусоросжигательных заводов, которые вырабатывают электроэнергию и дают тепло в процессе работы.
Но, Китай, как и Южная Корея, как и многие страны юго-восточной Азии, скупали мусор задолго до того, как это мусор сильно проредили у себя на территории.
Основной номенклатурой мусора, который скупали в России еще в 90-тые, а потом в нулевые и десятые были картон и различный бумажный мусор, различный пластиковый мусор (бутылки, бочки, листовой и т.д. пластик), бой и брак стекла и целые стеклянные изделия выброшенные на мусор (бутылки, листовое стекло и т.д.), скупались различные виды шин и резины, разные виды металлического мусора, различные виды деревянного мусора. Номенклатура, на самом деле, очень широкая.
Так вот ни о каком сжигании речь по этой номенклатуре не шла и не идет.
Из этой номенклатуры, за счет переработки, Китай делает новые изделия.
Например, тот же бумажный или картонный мусор используется для переработки и изготовления новой упаковки из картона и картонных изделий или бумаги и изделий из бумаги. Более того, наш картон, произведенный в России, Китай скупает с большим удовольствием, чем вторичный свой, который попадает к нам с его изделиями. Секрет простой — в картоне, изготовленном у нас, содержится очень большое количество целлюлозы, которую в Китае извлекают при переработке и используют в других изделиях (как пример, порох).
Аналогичная ситуация и с различным пластиком, стеклом, металлами и т.д., изделия из которых после цепочки переработок опять продают нам же в виде готовых новых изделий.
Например, некоторые виды пластика могут быть переработаны и использованы до 30-35 раз до момента серьезной потери их свойств, стекло практически без ограничений, как и многие виды металла. Шины – это не только резина, но и металлический корд внутри шин.
В России на мусоре тоже делают деньги, но только ловкачи, мошенники и казнокрады
В России, напротив, мусорная реформа, запущенная в 2019 году, превратилась в системный провал, ярче всего проявившийся в Новосибирской области.
Здесь, в регионе с населением почти 2,8 миллиона человек, вместо модернизации инфраструктуры и внедрения раздельного сбора произошёл классический сценарий рейдерского захвата: региональным оператором была выбрана компания «Экология-Новосибирск», аффилированная с московской Группой ВИС бизнесмена Вадима Мошковича.
Под предлогом строительства двух мусоросортировочных заводов и двух новых полигонов, а также закрытия устаревших — Гусинобродского (работает с 1960-х) и Хилокского, — тарифы на вывоз отходов были повышены в среднем в 3–4 раза. Если в 2018 году жители платили около 40–50 рублей в месяц, то к 2024 году эта сумма достигла 130–150 рублей, а в отдельных районах — 180–200 рублей (данные Региональной энергетической комиссии НСО).
При этом ни одного завода построено не было, ни одного полигона введено в эксплуатацию, а старые продолжают функционировать вопреки решениям судов и протестам жителей. По оценкам депутатов Заксобрания и журналистских расследований, из региона в московские структуры было выведено не менее 8–9 миллиардов рублей, собранных с населения под видом инвестиций.
Такую ситуацию надоело терпеть правоохранительным органам. Фигуранткой уголовного дела стала Лариса Анатольевна Анисимова — генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» с 2019 по 2022 год. В марте 2023 года Следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило в отношении неё уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, Анисимова организовала схему по хищению более 400 млн рублей, выделенных на строительство мусоросортировочного комплекса в Кочковском районе: средства были перечислены подконтрольным фирмам-однодневкам, а отчётная документация сфальсифицирована. Анисимова находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается (дело № 12304550000722, СУ СК РФ по НСО, материалы опубликованы на официальном сайте ведомства 17.03.2023).
Когда «Экология-Новосибирск» обанкротилась и отказалась от контракта, функции регоператора временно перешли к муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» (СПХ).
Надежды на то, что новый регоператор наведёт порядок, быстро рассеялись. В 2024 году под следствие попал Андрей Зыков — тогдашний директор МУП «СПХ». Его обвинили по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») — за заключение заведомо невыгодных контрактов на вывоз мусора с фирмами, не имевшими техники и персонала, что привело к срыву вывоза отходов, образованию стихийных свалок и убыткам бюджета в размере более 60 млн рублей.
Его преемник, Александр Южаков, возглавивший МУП «СПХ» в конце 2023 года, также оказался в центре скандала: в феврале 2025 года он был арестован, против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») — за системные нарушения в организации вывоза отходов, повлёкшие образование несанкционированных свалок в черте города и массовые жалобы граждан. По данным СК, под его руководством вывоз отходов в ряде районов был фактически парализован, а тарифные средства не были направлены на закупку техники и логистику.
Свалки в черте города и в пригородах продолжают расти, а феномен «мусорного туризма» — когда мусоровозы кружат часами, а то и сутками, в поисках хоть какой-то точки сброса — стал обыденностью. Жители жалуются на запах, насекомых, отравленную почву и воду. Но главное — на полное бездействие региональной власти.
Депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, неоднократно выступавший с критикой мусорной реформы, прямо заявил на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам: «Это не реформа, это рейдерский захват мусорного рынка. Деньги собраны, обещания даны, а результат — ноль. И это при полной поддержке региональной власти».
За пять лет в Заксобрании прошло более 50 заседаний, посвящённых мусорному кризису. Депутаты требовали отчётов, ревизий, смены операторов, введения моратория на тарифы. Ответы чиновников сводились к шаблонам: «вопрос на контроле», «ведутся переговоры», «идёт работа». Ни одного стратегического документа по переработке отходов принято не было. Ни одного чиновника высокого уровня — ни заместителя губернатора, ни министра — не привлекли к ответственности. Только исполнители низшего звена — директора компаний, бухгалтеры, водители. Как подчёркивает сам Агеенко, «мы годами бьём в колокола, но власть делает вид, что ничего не слышит. Потому что признать провал — значит признать собственную некомпетентность. А для чиновничьей системы это хуже любого экологического бедствия».
Разница между китайским и российским подходами не в ресурсах, а в системе управления и квалификации управленцев.
Китай действует как единый организм: государство определяет стратегию, инвестирует в инфраструктуру, контролирует исполнение через цифровые системы и QR-коды на мусорных мешках, штрафует нарушителей, увольняет неэффективных чиновников.
В России реформа была запущена без подготовки, без просветительской кампании, без создания мощностей переработки. Власти переложили финансовое бремя на население, отдав сферу в руки частных компаний, чья главная цель — извлечение прибыли, а не решение экологических задач.
Когда частные структуры провалились, их заменили на государственные — но с тем же результатом. Это не случайность, а система: отсутствие персональной ответственности, неэффективность регионального управления, коррупционные схемы распределения средств — всё это превращает мусорную реформу в бесконечный цикл имитации.
Выход есть, но он требует политической воли.
Во-первых, необходимо отменить монополию региональных операторов и разрешить конкуренцию — в том числе муниципальным и кооперативным моделям.
Во-вторых, создать федеральную программу строительства мусоросортировочных и мусоросжигательных комплексов с участием государства — по аналогии с китайской моделью, но с адаптацией к российским реалиям.
В-третьих, ввести жёсткий государственный контроль за расходованием тарифов с обязательной публикацией отчётов и независимым аудитом.
В-четвёртых, включить показатели эффективности мусорной реформы в KPI губернаторов — чтобы бездействие больше не оставалось безнаказанным.
И, наконец, поддержать бизнес в сфере переработки: налоговые льготы, субсидии, гарантированный сбыт вторсырья.
Как отмечает Алексей Яблоков, эксперт Центра экологической политики России, «мы можем повторить китайский путь — не в копировании, а в принципах: дисциплина, стратегия, ответственность. Но для этого нужно перестать относиться к мусору как к источнику дохода для чиновников — и начать относиться к нему как к национальной задаче».
Пока в Китае решают, где взять мусор для заводов, в Новосибирске решают, куда деть мусор. Разница — не в технологиях или деньгах, а в качестве управления. Мусорная реформа провалилась не потому, что её плохо придумали. А потому, что её никто не хотел делать — только брать деньги. И если эта модель не будет разрушена, экологический кризис станет не просто бытовой проблемой, а фактором дестабилизации всей системы.